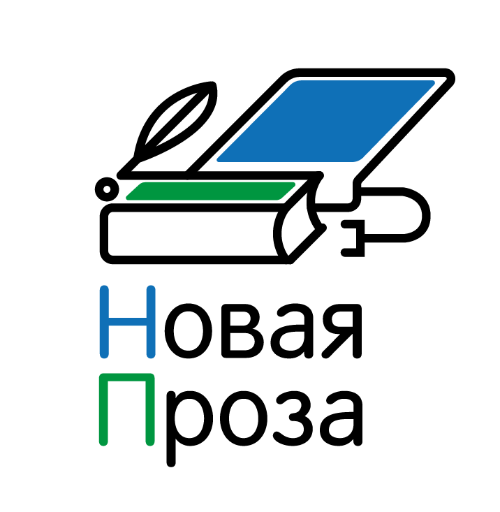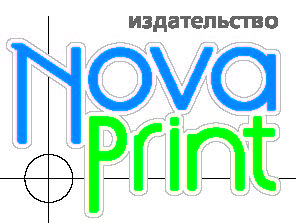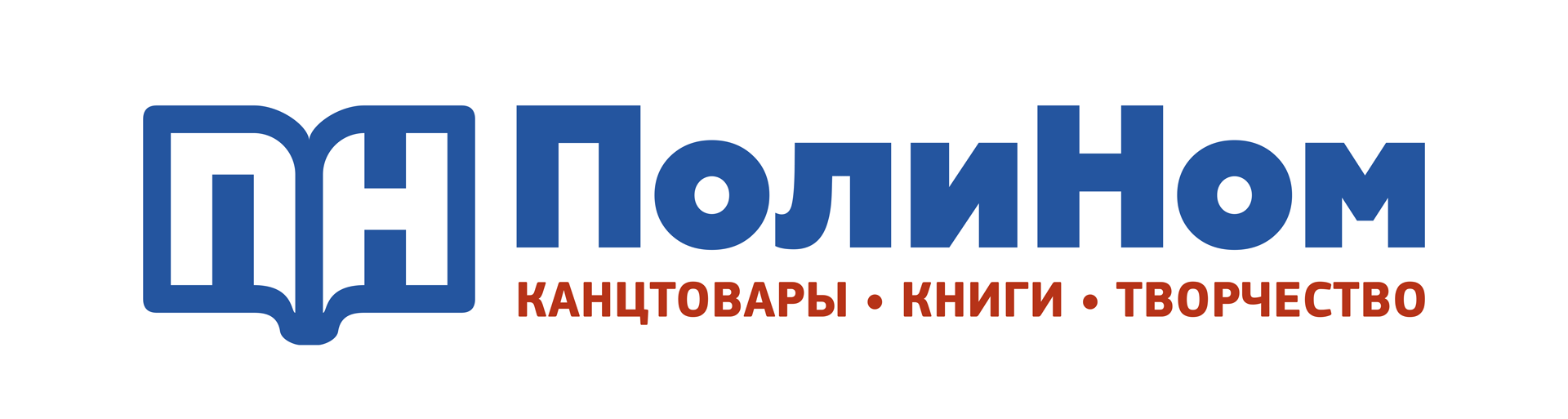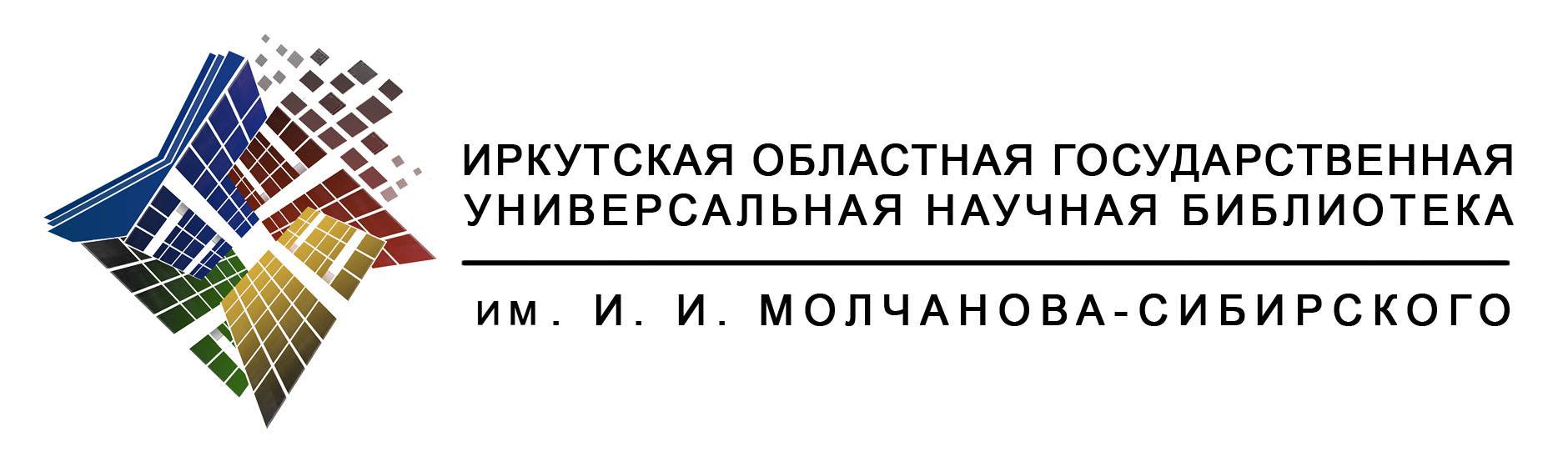Гремят кандалы, будто песню поют, в такт каждому шагу, каждому движению каторжанина, никуда от них не деться, не убежать. Идёт он, горемыка, с этим звуком сто верст, двести, тысячу и как будто привыкает уже, и не так тяжелы становятся ему оковы неволи, и как будто даже веселят на коротких привалах, и замечает он, что каждые кандалы издают свой, совершенно неповторимый и ни на что не похожий звук. Вечером, оборачивая их тряпьем, чтоб звоном своим не мешали спать соседям, разговаривает с ними: «Что, небось, тоже устали? Вона сколько верст отмахали сегодня! Ну, отдыхайте, до рассвета уже недалече!». А утром, зажав в кулаки холодные звенья цепи, начинает новый отрезок пути до далекого Забайкалья.
Вот и сегодня серый день и серые тучи, конвойные казачки, матерясь на чем свет стоит, гарцевали вокруг готовящейся к выходу каторжанской партии. Переход предстоял нелегкий. Фёдор Ерохин собрал в горсть остатки махры, поднял ладонь на уровне глаз. «В самый раз, на одну самокрутку хватит!» Увидев жадные глаза Алёшки Расстрыгина, молодого вихрастого паренька, улыбнулся: «Не боись, и тебе перепадет!». Неторопливо достал листочек с каким-то текстом, оторвал узкую полоску и привычным движением рук скрутил козью ножку. Вскоре сизый горький дым потянулся к небу. Бумага с буквами постепенно чернела и превращалась в пепел. «Интересно, что там написано?» – неторопливо думал Фёдор. Читать он отродясь не умел, да и не до этого было. Родился он в Саратовской губернии.
Мамка была у барина кухаркой, батька всю жизнь в поле. Фёдор уже с шести лет был приучен к работе на земле, и, казалось, ничто не может сломать это устройство жизни. Влюбился он в Агафью, красавицу молодую, та ответила взаимностью. Сыграли свадебку. Зажили как все остальные – ни хуже, ни лучше. Бывало, погуливал по праздникам Фёдор, не без этого, но всё же меру знал. Дитёв народили. Однажды барин охоту затеял. Волков много развелось, скот чуть ли не каждый день резали. Да ладно б, если с голоду. Нет, молодых волчат натаскивали, бывало, по десять коров за раз драли. Вот и решил барин порядок на земле своей навести.
С утра Фёдор с егерями выставил флажки, и крестьяне пошли загонять волков. Вскоре стая, преследуемая гончими, уже неслась по коридору из флажков прямо на засаду. Фёдор в это время сидел с барином в кустах, ожидая приближения лесных разбойников. Вдруг один из волков, видно, матерых, перепрыгнул через флажки прямо на барина. Фёдор успел услышать только лязг волчьих зубов и хруст шейных позвонков, кровь брызнула ему прямо в лицо, залив глаза. Пока он их протер, от волка уже и след простыл, прямо перед ним лежал мертвый барин. Затем было следствие, которое доказало, что вины Фёдора никакой в том нет. Но барыня решила по-другому, и в один из дней она позвала его и дала сверток, который он должен был доставить в соседнюю усадьбу её сестре. На полдороге догнала его полиция. Били Фёдора долго и сильно. Оказалось, что в свертке были семейные драгоценности барыни, которые он якобы у неё украл. В суде Фёдор пытался оправдываться, кричал, что все это большой обман, бесполезно! Оно и понятно, судьи поверили пострадавшей стороне. Вспомнили и прошлое дело. Барыня-злодейка дала показания, мол, давно уже Фёдор имел зуб на её мужа, вот и нашёл способ поквитаться с ним, а теперь решил, прихватив её имущество, сбежать. Закончив говорить, она криво улыбнулась и с чувством выполненного долга удалилась. Судьи вынесли вердикт – «бессрочная каторга» как пыльным мешком по голове. Всю жизнь в Сибири! Почти смертный приговор. Знал только Фёдор, что Сибирь страшно далекая и холодная, каторжанский край. С женой и детьми попрощаться ему не дали. И вот он здесь, на этапе, и пока ещё живой.
Определили Фёдора в первую категорию, которую следовало содержать в ручных и ножных оковах. Не убежишь, крепки цепи, надёжны. Летним утром этап тяжело двинулся в свой последний переход до Петровского завода. Пыль от сотен ног поднималась серым маревом до самого солнца, весь этап двигался как в тумане, и вместе со стоном изнуренных невольников, срывающимся с их потрескавшихся от жары губ, с каждым новым шагом слышалась песня железных оков. Этап. Бессилие и безысходность, страшное наказание, придуманное человеком для человека. Слёзы и горе, смерть, шагающая где-то рядом, пока ещё невидимая, но вдруг, как будто блеск от её косы, ещё один из каторжников, так и не дойдя до своей тюрьмы, не отбыв своего срока, обманув охрану и судьбу, душою выпорхнул на свободу. Ненужное уже тело тряпичным мешком осело в дорожную пыль. Открытые глаза смотрели в небо, словно пытались разглядеть там улетающую всё выше и выше душу.
Конвойная команда остановила этап и, матерясь, забросила на едущую сзади телегу труп умершего. Ближе к вечеру стал слышен грохот и виден черный дым, идущий из труб Петровского завода. Уже на закате этап вступил в село – место своей каторги – и пошёл по улице, сплошь состоящей из колченогих хибар, в которых жили ссыльные. Улица оживилась. Из-за заборов выскочили любопытные босоногие мальчишки и с криками «Ведут, ведут…» побежали впереди колонны, старухи, сидящие на скамейках, приподнялись, вглядываясь в лица каторжников, словно пытаясь кого-то узнать, бабы, побросав работу, стояли теперь у ворот и качали головами: «Вот ещё пригнали горемык!», и лишь бестолковые коровы никак не хотели уступать дорогу, пока казаки гиканьем не отогнали их прочь.
Наконец этап вошёл в строение, огороженное высоким частоколом в два ряда. Это был известный Петровский каземат, построенный когда-то для государственных преступников. От времени бревна его уже почернели, стены перекосило, нижние венцы кое-где подгнили – всё это было следствием неправильного выбора места для строительства тюрьмы комендантом Лепарским. Каземат поставили на болотине, и хотя были проложены подземные водоотводы, они мало помогали. Но, несмотря на это, тюрьма продолжала выполнять свои функции. Кандальники, подгоняемые конвоем, выстроились перед казематом для пересчета. «Один, второй, третий, пятьдесят второй… Одного не хватает, Ваше благородие. Убёг, чё ли?» – обратился тюремщик к усатому серому от пыли казачьему офицеру из конвойной команды. Тот устало кивнул в сторону телеги, из которой под наброшенной рогожей виднелись черные с запекшейся кровью пятки умершего каторжника: «Вон лежит родимый, куда он денется. Закончил?». «Порядок! Свободны!» – отозвался тюремщик. Но Фёдор с другими бедолагами остался стоять.
Через некоторое время показался важный господин в сюртуке. В руках у него было несколько веток сосны, с помощью которых он довольно ловко отмахивался от мошкары. Окинув безразличным взглядом толпу новоприбывших, спросил: «Ну-с, господа каторжники, жалобы на здоровье есть?». И тут же ответил сам себе: «Значит, нет, и то хорошо! Всё равно лечить вас нечем, да и незачем. Ваш брат живучей любой кошки, коли не помрет, значит, жить будет!». После этих слов он прихлопнул у себя на щеке прорвавшегося через кордон комара, удовлетворенно крякнул, развернулся и, напевая что-то себе под нос, направился к жилым домам, виднеющимся неподалеку. Кандальникам сунули в руки по краюхе хлеба и развели по камерам. Фёдор спрятал пайку за пазуху, рухнул на нары и тут же заснул глубоким сном, больше похожим на смерть.
***
Дальше пошла череда безликих, наполненных тяжелой работой дней. Прикованный к тачке Фёдор целыми днями возил руду к домне, а ночью в своей камере ему снились родное село, кричащие от радости ребятишки, краснощекая Агафья, суетящаяся у печи, дымящаяся сладкая булка пышного домашнего хлеба. Хлеб снился Фёдору чаще всего, но стоило ему протянуть к нему руку, чтобы отломить кусочек, как он тотчас просыпался. Гремя цепями, растерянно вскакивал на нарах, сидел с минуту, пытаясь понять, что же было явью, а что сном, затем, осознавая действительность, немного успокаивался и опять погружался в свои воспоминания. Временами Фёдору хотелось, чтобы всё это закончилось, чтобы Господь увидел его, невинно мучающегося, да и прибрал к себе. Но наступал новый день и ничего не менялось.
Лето сменилось осенью, осень зимою. Стало холодно, выпал первый невесомый как пух снежок. Фёдор стоял на перекличке и, задрав лицо вверх, ловил его обветренными губами, ощущая, как ему казалось, сладковатый вкус. Снежинки, кружась, садились ему на щёки, нежно щекоча, быстро превращались в капельки воды и, оставляя бороздки на давно немытом лице, скатывались прямо на бороду. Фёдор закрыл глаза. «Почти как дома», – подумал он. Хотел утереть руками лицо, на секунду забыв о своих кандалах, но их звон напомнил ему о том, что всё это лишь грёзы. О побеге Фёдор, конечно, думал, как, впрочем, и другие собратья по несчастью. Но куда бежать? Кругом на тысячи вёрст тайга, зверьё, буряты – охотники за головами. Недалеко уйдешь. Многие бежали, и сказывали, будто кто-то даже дошёл до родины своей, но и там излавливали и присылали обратно, а здесь беглых ждало изуверское наказание – их секли плетьми, били шпицрутенами (длинными палками), вырывали ноздри, клеймили. Но бежать продолжали. Такова человеческая натура. Свобода – превыше всего.
С каждым днём Фёдор ощущал, что безразличие все больше и больше овладевает его душою и телом. Уже ничего не хотелось, кроме как поесть, попить, поспать. Работу свою он выполнял механически. Взял тачку, поставил, покатил, нагрузил, развернулся, покатил обратно… Жизнь его превратилась в один обезличенный день. Только ночь позволяла ещё почувствовать в себе остатки жизни, той светлой жизни, которой он жил раньше. Но постепенно сны становились всё туманнее, и однажды утром он вдруг понял, что забыл лицо жены. Весь день Фёдор работал сам не свой, что-то бурчал себе под нос, иногда останавливался, утыкался взглядом в стену, тщетно пытаясь что-то вспомнить. Мастер Литвинов грешным делом подумал, что Фёдор лишился рассудка. Такое тоже было не редкостью. Но кандальник его успокоил, мол, в разуме ещё. Лишь поздно вечером Фёдор, молча сидевший в темном углу камеры, вдруг радостно вскочил и закричал: «Вспомнил! Вспомнил!». Сокамерники от неожиданности вздрогнули: «Тьфу ты! Бес тебя, что ли, попутал?». Но Фёдор не обращал на них внимания: «Вспомнил, я вспомнил тебя, моя Агафьюшка! Теперича не забуду никогда!». С этого дня он решил бежать.
Знал Фёдор одну истину: «Все человеки – божьи создания», хотя некоторые все-таки твари. Встречаются в заводской конторе и хорошие люди, ну, того же Литвинова взять. Мастеровой человек, дельный, слова грубого не скажет, а помощник управляющего Машуков, что ни слово, то мат-перемат и всё время норовит в рожу заехать. Разные люди на заводе, и в тюремном замке каждый по-своему живет. Все здесь на виду, ничего не скроешь, знаешь, у кого какие грешки водятся, кто любитель на деньги играть, а кто и приворовать может. На заводе не сплошь каторжники работают, есть и горнозаводские, которые с самого рождения к заводу приписаны. Некоторые кандальников жалеют, сами люди подневольные, так что, если надо, и помочь могут.
Фёдор долго присматривался к кузнецу Игнатию Болотову, все удивлялся, как он ловко так может из любого куска железа вещь дельную соорудить, а уж подкову подправить или даже ножичек смастерить для него плёвое дело. Вот Фёдор и заговорил с ним как-то о семье да о доме. Рассказал про свою жизнь. Пока помощники раздували меха, Болотов слушал, затем стряхнул пепел с опаленных усов, усмехнулся и сказал: «А моя жизнь семейная коротка оказалась, можно сказать, не начиналась даже. Была у меня невестушка – Великанидой звали. Ведь надоть так, я уже и подарочки родне сделал, с родителями её перед образами свечи зажгли, клятву перед Господом дали, чтобы, значит, по-людски всё было, я на свадьбу припасов накупил, а она – шасть через огороды и к полюбовнику. Поп какой-то их в Хонхолое потом обвенчал, на том моя любовь и кончилась. Уж десять лет прошло, а я всё один. Вот такая у меня семья – Пёс, кот да я!». Игнатий вытер рукавом пот, катившийся со лба, пристально посмотрел на Фёдора и спросил: «Ладно, знаю, человек ты неплохой. Давно уже тебя тут вижу. Не чета остальным варнакам, не по дороге тебе с ними. Всё больше молчишь. Думу какую думаешь? Чё хоть замыслил-то?». Здесь Фёдор ему и открылся. Игнатий задумался, вытер измазанные в саже руки об кожаный фартук: «Дело-то оно, конечно, понятное, и собака норовит с цепи сорваться. Куда пойдешь-то? Тайга кругом, сгинешь!». Фёдор заверил кузнеца: «Не жить мне в неволе. Лучше на свободе день провести, чем двадцать лет в оковах», – для убедительности он поднял на протянутых руках свои цепи. В общем, в один прекрасный день Игнатий, сунув что-то в руку стражнику, зазвал Фёдора к себе в кузницу, где быстро поменял казенные шпонки на кандалах на свои хитрой конструкции: если их несколько раз повернуть, то оковы распадались на две части. Осталось только дождаться весны, и тогда, думал Фёдор, ничто его не удержит. Он вернётся к Агафье и деткам.
Дни становились короче, ночи длиннее, и казалось Фёдору, что зима эта не кончится никогда. Тоска его становилась всё сильнее, иногда она причиняла такую боль, что Фёдор не мог спать, вставал среди ночи, подходил к маленькому оконцу, вырубленному под самым потолком, и смотрел на звездное небо, а когда оно было сокрыто облаками, то просто в темноту и молился, молился, прося Бога лишь об одном, чтобы Он избавил Фёдора от этих мучений. И казалось кандальнику, что иногда Господь слышит его и посылает знак в виде пролетевшей звезды или птички, чирикающей прямо напротив оконца. Тогда надежда снова в нем воскресала, и на сердце наступало какое-то успокоение. Весна, когда же весна…
***
Стелется вьюга по сибирскому тракту, шалью белой покрывает землю. Путники в такую погоду стараются остаться на станции, не искушать судьбу дальними переездами. День потеряешь – жизнь спасешь. Не раз бывало, что замерзали в пути и кучера, и пассажиры, и лошади. Про бродяг и говорить не приходится, те, кто не пристроился ближе к теплу, наверняка не переживут этой ночи. Беглые, кто успел насладиться за короткое забайкальское лето свободой, возвращаются с первым снегом обратно в места неволи. Снеся заслуженное наказание, сидят потом на нарах в обжитой камере и рассказывают юнцам о своих подвигах, правды в которых на полушку. Горит огарок свечи. А вьюга за стенами всё завывает. Спрятав нос в ворот овчинного тулупа, охрана топчется с ноги на ногу, то и дело забегая в караулку, чтобы сбросить там покрытые ледяной коркой варежки и протянуть озябшие руки к раскаленной печке. Мороз ведь всех одинаково достает: и стражников, и каторжников. Завывает ветер, волнами выдавливая холод из прогнивших углов камеры. Обмотав кандалы тряпьем, чтобы не звенели, лежал Фёдор на своем месте, готовясь задремать под негромкий разговор играющих в карты сокамерников. Вдруг тон голоса их повысился, и через минуту ссора переросла в драку. Вскоре вся камера напоминала разворошенный муравейник. Фёдор успел только соскочить с нар, как тут же вскользь получил удар в лицо от одного из сокамерников – Михея, огромного роста детины, прибывшего вчера с новым этапом, махавшего своими кулачищами без разбору, направо и налево. Двери камеры распахнулись, разнять дерущихся заскочили оба охранника, оставленные в тюрьме на ночь, это стало их ошибкой. Раньше они справлялись с такими проявлениями ярости каторжников без особого труда, и обычное дело заканчивалось тем, что виновных садили на недельку на хлеб и воду. Но не в этот раз. Здесь был Михей.
Не успели стражники осознать своего промаха, как оба лежали без чувств на грязном полу камеры. Драка тут же прекратилась. Михей, как большой ребенок, виновато хлопал глазами: «А как это? А? Это они когда зашли-то? Да я не хотел!». И тут Фёдора как будто озарило: «Вот он – шанс! Другого может и не случиться! В комнате охраны висят два тулупа и валенки. У частокола стражника может и не быть. Небось, греется. Даже если и стоит, всматриваться в лицо вряд ли будет, просто отопрёт ворота. Может, получится!». В тот момент Фёдор не думал о морозе, о том, что надо бы прихватить продуктов. Мысль, что свобода рядом, затмила все остальные. На глазах изумленных собратьев по несчастью он разломал кандалы, которые с жалобным звоном, словно прося не бросать их здесь, упали у его ног. Молча подобрал с пола ключи и направился в комнату охраны. Так и есть: на гвозде висели доха, два тулупа с рукавицами, у печи стояли валенки. Фёдор оделся, сунул за пазуху найденный тут же топор и краюху хлеба с головкой лука. Выглянул из окна: одна створка ворот оказалась распахнутой, охрана грелась в караулке, и тогда Фёдор шагнул в метель.
Сколько он шёл, кандальник не знал. У него была лишь воля и цель, которую он поклялся себе достигнуть любой ценой. Он понимал, что цена эта может быть непомерно велика и сама его жизнь может стать ею. Но Фёдор был готов даже на это. Никогда ещё он не был так уверен в себе. Позади остались каторга, горящие домны завода, тачка, стражники, его кандалы, а там, где-то далеко-далеко за горизонтом, его ждали родное селение, ребятишки, краснощекая Агафья, суетящаяся у печи, и дымящаяся булка сладкого домашнего хлеба.
Вставало солнце, метель постепенно утихала, хотя небольшие порывы ветра всё ещё бросали в лицо Фёдору снежную мошкару, он рукавицей смахивал с бороды и усов прилипший снег и шёл дальше. Дорожка его следов постепенно, словно стираемая чьей-то невидимой рукой, исчезала, и силуэт человека, упорно идущего вперед, тускнел в предрассветной дымке, постепенно сливаясь с окружающим ландшафтом.
***
Разъездные, посланные на поиски беглого каторжника утром, вернулись ни с чем. «Чего его искать-то, замерз где-нибудь, варнак! Списывайте и дело с концом», – постановил командир поискового отряда, сбивая с роскошных усов сосульки. На том и порешили.
Прошло четыре года. В Петровский завод прибыла новая партия кандальников. Распределили их по разным камерам, благо свободные места имелись. Каземат ожил. Как водится, старые сидельцы тотчас окружили новоприбывших: кто-то совал им в замерзшие руки кружку с горячим забайкальским чаем-чагой, кто-то – краюху хлеба, взамен требуя одного – новостей из России. Через час вся тюрьма гудела от сногсшибательной вести: беглый Фёдор объявился. Сказывали, будто видел его один из кандальников, тогда ещё свободный человек, два года назад в больнице в Саратове. Назвался Степаном, документы на это имя справлены были. Пришел он туда с отмороженными пальцами. И, самое главное, приехала как-то к нему красивая крестьянка с детьми, долго они обнимались и плакали на глазах всей больницы. Ночью этот Степан и рассказал соседу по койке, что беглый он, из Сибири, с Петровского завода. Наверное, надо было человеку выговориться, вот и выдал себя. Посидели мужики, покурили и разошлись. А наутро Степан этот бесследно исчез. Никто искать его не стал. Больше его рассказчик не видел. А до тюремного начальства эта весть так и не дошла, никто не выдал. Вот только побегов из Петровского завода с тех пор стало ещё больше.
 Автор рассказа «Кандалы», занявшего третье место в номинации «Классический (традиционный)», - Дмитрий Головин из Петровска-Забайкальского. Номинант предыдущего конкурса «Новая проза». Работал в налоговой полиции, наркоконтроле, директором клубной системы района. В последние годы - фотограф. По словам автора, в основе сюжетов его рассказов лежат исторические факты, образы его бабушек и дедушек-староверов, воспоминания детства. «Есть место и художественному вымыслу, куда без него…» - говорит он. На днях Дмитрий Головин закончил быль «Золотое сердце», действия в которой происходят в XIX веке. Сейчас обогащает его местным чикойским говором. Также доснял документальный фильм «Во чикойской стороне», получивший поддержку международного Забайкальского кинофестиваля. Считает, что конкурс «Новая проза» стал для него стимулом писать. «Победа в нем и даже само участие дает возможность авторам почувствовать, что они востребованы, что их ценят. Это особенно важно в наше время, когда писательский труд значительно обесценился», - отмечает Дмитрий Головин.
Автор рассказа «Кандалы», занявшего третье место в номинации «Классический (традиционный)», - Дмитрий Головин из Петровска-Забайкальского. Номинант предыдущего конкурса «Новая проза». Работал в налоговой полиции, наркоконтроле, директором клубной системы района. В последние годы - фотограф. По словам автора, в основе сюжетов его рассказов лежат исторические факты, образы его бабушек и дедушек-староверов, воспоминания детства. «Есть место и художественному вымыслу, куда без него…» - говорит он. На днях Дмитрий Головин закончил быль «Золотое сердце», действия в которой происходят в XIX веке. Сейчас обогащает его местным чикойским говором. Также доснял документальный фильм «Во чикойской стороне», получивший поддержку международного Забайкальского кинофестиваля. Считает, что конкурс «Новая проза» стал для него стимулом писать. «Победа в нем и даже само участие дает возможность авторам почувствовать, что они востребованы, что их ценят. Это особенно важно в наше время, когда писательский труд значительно обесценился», - отмечает Дмитрий Головин.